Исследование специфики метафоры у А. Ахматовой как значимого элемента стилевой структуры ее поэтических текстов
ВВЕДЕНИЕ
Тайна метафоры привлекала к себе крупнейших
мыслителей - от Аристотеля до Руссо и Гегеля и далее до Э. Кассирера, Х.
Ортеги-и-Гассета и многих других. О метафоре написано множество работ, о ней
высказывались не только ученые, но и сами ее творцы - писатели, поэты,
художники, кинематографисты. Метафора органически связана с поэтическим
видением мира. Само определение поэзии иногда дается через апелляцию к
метафоре. Поэтическое творчество того или иного автора нередко определяется
через характерные для него метафоры.
Поэт, прежде всего, имеет дело со словом, его
сопротивление - как материала - преодолевает. Слово по-разному может зазвучать
в поэтическом тексте. Как оно будет «жить» в нем и каким образом соотноситься с
лирическим состоянием автора - зависит от его мироотношения и эстетических
ориентации, которые, в свою очередь, определяют стилевые формы его поэзии.
Своеобразие индивидуальных стилей поэтов XX века во многом определяется именно
тем, насколько включен в их поэзию мир предметный и как он преобразован словом.
Размышления об этом так или иначе всегда приводят к разговору о роли метафоры в
поэтических текстах XX века, о тех функциях, которые она может на себя брать.
В русской поэзии первой половины XX века
сформировалось несколько типов отношения к слову, а значит, и к метафоре. В
творчестве символистов метафорическое восприятие мира предстает основным
«свойством» истинного поэта. По справедливому замечанию Н. Барковской,
«метафора ... может рассматриваться как стилевой закон в символизме» [3, с.
60]. Иное отношение к слову вырастает «из тех расхождений, которые определились
внутри самого символизма» [33, с. 78]. О. Мандельштам в своей статье «Утро
акмеизма» пишет об этом так: «Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, -
такая же прекрасная форма, как музыка для символистов» [17, с. 169]. Таким
образом, акмеисты опираются уже на другие эстетические установки. Они «вводят
готику в отношения слов» [17, 169]. Поэзия намеков и полутонов сменяется
искусством «точных» слов и конкретных образов. В этом отношении акмеисты
формируют новую установку, которую можно обозначить словами того же О.
Мандельштама: «МЫ не летаем, мы поднимаемся только на те башни, которые сами
можем построить» [17, с. 172]. Отсюда - очень осторожное обращение с метафорой и
попытки развить многообразные «боковые» оттенки слов. Подобная направленность
стиха в большой степени характерна и для творчества Анны Ахматовой, особенно
раннего его периода, когда она начинает писать в русле акмеизма. И, помня о
том, что творчество каждого большого поэта, как правило, не укладывается в
рамки поэтической школы, к которой он себя причисляет, мы в то же время не
должны забывать о тех чертах стиха Ахматовой, которые позволили В.М.
Жирмунскому увидеть в Ахматовой «лучшую и самую типичную представительницу
молодой поэзии» [11, с. 108], поэзии, складывающейся в русле акмеизма.
Опора Ахматовой в первую очередь на прямое
значение слов довольно устойчива. Многие исследователи совершенно справедливо
писали и пишут о том, что поэзия Ахматовой - это поэзия непереносных смыслов.
Это действительно так, - тем более, если рассматривать ахматовскую поэзию на
фоне поэзии предшествующей, ибо именно язык символистов является необходимым
фоном для понимания многих из тех процессов, которые совершаются в дальнейшем в
словесных поисках поэзии. Для литературоведов - современников Ахматовой - этот
фон, несомненно, играет особую роль, во многом определяя направление их научной
мысли, вследствие того, что символизм оказывается для них ближайшим по времени
литературным контекстом. Очень важным, поэтому становится для них выявление
особенностей поэтики и стиля Ахматовой через сопоставление двух творческих
методов. В своей статье 1923 года Б. Эйхенбаум отмечает, что «Ахматова избегает
метафор», столь значимых для символистской формы, что она к ним равнодушна и
употребляет их изредка, «не придавая метафоре как таковой специально
поэтического значения» [33, с. 93]. И далее он делает вывод о том, что метафоры
вообще чужды ахматовскому стилю. В.М. Жирмунский в статье, написанной ранее (в
1916 году), говорит (как о характерной черте стиля Ахматовой) о ее «стремлении
к целомудренной простоте слова, о боязни ничем не оправданных поэтических
преувеличений, чрезмерных метафор и истасканных тропов, о ясности и
сознательной точности выражения» [11, с. 108].
В том же направлении размышляет о поэзии
Ахматовой Л. Гинзбург: «Для первого периода [ее творчества] характерна
предметность, слово, не перестроенное метафорой, но резко преображенное
контекстом» [7, с. 126]. Однако, глядя на ахматовскую поэзию уже из 1977 года и
поэтому представляя творческий путь поэта в его «началах и концах», она
обращает внимание на то, что «в поздних стихах Ахматовой господствуют
переносные значения, слово в них становится подчеркнуто символическим» [7, с.
126].
Тенденция к усложнению метафорического
словоупотребление в поэзии Ахматовой (от ранней лирики - к поздней) лишь
обозначена в современных исследованиях, но не описана с акцентом на раннюю фазу
данного процесса. Так, Р. Тименчик отмечал, что если вокруг первых сборников А.
Ахматовой возникала «атмосфера загадки», «ситуация парадокса», то, начиная с
послевоенной лирики, «недосказанность становится не только ее принципом, но и
одной из тем» [26, с. 9, 12].
В подобном направлении развернуто и исследование
Н.С. Трифоновой «Метафорический перифраз и предикативная метафора в ранней
лирике Ахматовой («Белая стая») [28, с. 273]. Описывая функции предикативной
метафоры в поэтике Ахматовой как средства отстранения и затемнения смысла
текста, исследовательница отмечает тенденцию к увеличению подобных метафор в
поздней лирике поэтессы. Поскольку в таких метафорах, как утверждается в
работе, соединяется стремление к недосказанности и напряженность переживания.
Правомерно предположить, что некая доминанта
стиля Ахматовой, непосредственно связанная с метафорой, начинает складываться
уже в ранней ее поэзии. Попытка осознать метафору в соотношении с другими
элементами ахматовской поэтики предпринимается В.В. Виноградовым в его статье
1925 года «О поэзии Анны Ахматовой (стилистические наброски)» [5, с. 400-426].
Рассматривая ее творчество имманентно, подходя к ее текстам как лингвист, В.В.
Виноградов характеризует некоторые особенности метафорического
словоупотребления в стиле ранней Ахматовой. С тех пор этой проблеме наука практически
не уделяет внимания. Чаще всего мы имеем дело с попутными заметками о
метафорической ахматовской форме, возникающими «на полях» другой научной темы.
Из современных работ, в которых так или иначе анализируется ахматовская
метафора, особенного упоминания достойна лишь коллективная монография под
названием «Очерки истории языка русской поэзии XX века. Тропы в индивидуальном
стиле и поэтическом языке», выпущенная Институтом русского языка РАН. В данной
монографии, рассматривающей проблемы употребления тропов (в том числе метафоры)
в поэзии XX века, несколько страниц посвящено и метафоре в творчестве Ахматовой
[20, с. 143-147]. Так, авторы обозначают некоторые основные тенденции
метафорического словоупотребления, получившие развитие в ее поэзии, а также останавливаются
на вопросе о взаимодействии метафоры с другими видами тропов, характерном для
ее стиха.
Между тем задача выявления специфики ахматовской
метафоры и комплексного ее осмысления как значимого элемента стилевой структуры
поэтических текстов Ахматовой представляется не только важной, но, более того,
исследовательски необходимой. Результаты подобной работы, без сомнения,
позволяют увидеть и осознать связи, которые действуют в поэтическом мире
Ахматовой, так как на метафоре, как и на всех элементах ее формы, лежит печать
авторского стиля.
Действительно, Ахматова избегает поэтических
излишеств и потому с осторожностью обращается к такому сильному стилистическому
средству, как метафора. Но, тем не менее, уже в ранней ее поэзии существует
определенный «пласт» метафорического словоупотребления, который заслуживает
пристального внимания. Этот «пласт» количественно значительно уступает
метафорическому массиву, существующему в поэзии символистов, что, однако, не
делает его менее значимым в ахматовской поэтике и менее интересным для
исследователя. Метафора в ахматовском тексте «живет» иначе, чем в текстах
символистских. Она иначе включена в художественную ткань стихов и выполняет
другую функцию, в которой открывается ее особая эстетическая и стилевая роль. В
данной дипломной работе проблема метафорического словоупотребления в текстах
Ахматовой рассматривается прежде всего на материале двух первых ее поэтических
книг. Это «Вечер» (1912) и «Четки» (1914), которые, будучи тесно связанными
между собой, тематически являют собой самую раннюю стилевую манеру Ахматовой.
Наше обращение к ранним стихам Ахматовой отнюдь не случайно, ибо, несмотря на
их сдержанную метафоричность, в них начинает складываться та стилевая
ориентация Ахматовой в отношении к метафоре, которая будет проявляться,
варьируясь и усложняясь, в ее более поздних поэтических книгах.
В данной дипломной работе мы стремимся выявить в
них доминанту этой ориентации и тем самым взглянуть на знакомые тексты под
новым углом зрения.
Целью данной дипломной работы является
исследование специфики метафоры у А. Ахматовой как значимого элемента стилевой
структуры ее поэтических текстов.
Для достижения поставленной цели необходимо
решение следующих задач:
рассмотреть особенности метафорического
словоупотребления в ранней лирике А. Ахматовой;
обозначить основные ахматовские приемы включения
метафоры в художественную ткань стиха;
проследить тенденцию к усложнению метафоричности
у Ахматовой: от «стертой» традиционной метафоры в ранней лирике - к сложному
метафорическому комплексу (на примере метафорического «гнезда» ЛЮБОВЬ-ЗМЕЯ).
1. СПЕЦИФИКА МЕТАФОРЫ В РАННЕЙ
ЛИРИКЕ АННЫ АХМАТОВОЙ
Когда выходят в свет две первые поэтические
книги Ахматовой, первое, что отмечает взыскательный читатель начала века,
воспитанный на произведениях символистов, - это необычайная «простота» языка
молодой поэтессы. Метафора перестает в ее стихах быть главным средством
поэтической выразительности. Метафорические формы рассредоточиваются в ее
стихе, они не являются частыми, но там, где метафора имеет место, возникают,
как правило, особо акцентированные и своеобразные формально-семантические
отношения. Последние и будут предметом внимания в данной работе.
Следует начать с того, что ахматовские метафоры
не являются равноценными в эстетическом плане. Их можно разделить (в известной
степени условно) на две группы, к первой из которых мы отнесем метафоры
традиционные, а во вторую - метафоры оригинальные, или - собственно
индивидуальные. Традиционные метафоры создают вполне определенный фон поэзии
Ахматовой. Они оказываются здесь как бы «особыми поэтическими формулами»,
обозначающими какие-либо стороны поэтической реальности. Это то, что уже отлито
временем, что несет на себе отпечаток трудов и вдохновения поэтов
предшественников, ведь «традиция нигде не играет такой роли, как в лирике» [8,
с. 9]. Следует заметить, что в XX веке «обостряется отношение к поэзии как к
составной части действительности. <...> Отсюда - мышление поэтическими
формулами, выработанными предшественниками, не как подражание, а как сознательное
введение поэзии, поэтической традиции...» [19, с. 15].
Ахматовой же свойственно особое отношение к
традиции, - ей, как никому, важно живое ощущение связи с предыдущими
поколениями творцов. Вот почему она «иногда как бы намеренно берет самые прозаические
метафоры» [33, с. 133]. Такие метафоры не «рвутся» вверх, не тяготеют к
размыванию устоявшихся смысловых границ. Они закреплены литературной памятью и
в некоторых случаях оказываются единицами особого поэтического языка. «Веками
существовал специально поэтический язык; язык, для которого решающее значение
имели отстоявшиеся формулы, корнями уходящие в культовое мышление, в народное
творчество, исторически развивающиеся и передающиеся от поэтической системы к
поэтической системе» [8, с. 9]. Ахматова достаточно часто использует такого
типа метафоры и метафорические сочетания, от них производные:
…Был светел ты, взятый ею
И пивший ее отравы…
(«Вечер»: «Любовь покоряет обманно…») [1, с. 25]
…Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку…
(«Вечер»: «Музе») (с. 38)
…Но мне серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
(«Четки»: «Не будем пить из одного стакана») (с.
56)
Употребление подобных метафор связано также с
ориентацией Ахматовой на эстетику романса и баллады, в жанрах которых
разрабатывалась тема любви в поэзии, а именно эта тема в раннем ахматовском
творчестве («Вечер» и «Четки») является центральной. Такие привычные для
подготовленного читателя метафоры сродни «словам, которые свою эстетическую
ценность и свое значение приобретают заранее, за пределами контекста данного
стихотворения в контексте ... определенных жанров» [9, с. 88]. Традиционная
метафора, однако, не вводится Ахматовой в стихотворный текст механически. Она
преображается и переосмысляется контекстом стихотворения и поэтому не ощущается
банальностью. Традиционная метафора, по существу, в ее стихе служит почвой для
создания новой, подчеркнуто индивидуальной метафоры или даже метафорического
сочетания:
…Озарила тень улыбки
милые черты…
(«Вечер»: «Читая Гамлета») (с. 22)
…Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки…
(«Вечер»: «Любовь») (с. 23)
…А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом…
(«Четки»: «Вечером») (с. 51).
Знакомые метафоры, которые стоят за приведенными
строками, легко угадываются, однако, как справедливо пишет В.В. Виноградов,
«строй сознания ярче всего отражается и выражается в способе сближения и
сочетания слов»[5, с. 102].
Так метафора, как и другие элементы органичной
для поэта формы, отражает и особенности его художественного мышления,
«указывая» на главные характеристики его лирического героя и мира, в котором он
живет. Процесс создания метафор подчиняется некоему внутреннему закону, который
действует в этом художественном мире и пронизывает все его уровни. Такой закон
есть порождение индивидуальности художника, явленной в его стиле. Ахматовский
стилевой закон, что мы видим уже в первых приведенных строчках поэтессы, являет
себя как парадоксальность, резкая контрастность, неожиданность, странность, в
основе которой лежит совмещение многого и разного в одном образе. Ахматова
умеет увидеть сходство в несходном, сблизить предметы и явления совершенно,
казалось бы, «неблизкие», найдя для этого свое «странное» основание. Она
свободно может сказать о «тени озаряющей улыбки», а в звуке скрипки услышать и
сладость, и рыдание, и молитву, и тоску - одновременно. Это множество «спорящих
смыслов» оказывается для нее совершенно естественным и необходимым. Не случайно
Ахматова так любит многочленную метафору, где каждый компонент вносит в текст
свой особый смысл, свою иную точку зрения на предмет или явление:
…Над засохшей повиликою
Мягко плавает пчела…
(«Вечер»: «Я пришла сюда, бездельница…») (с. 35)
В результате противоречие в ахматовском мире
преодолевается, становится мнимым, а связь - на первый взгляд странная, поражающая
- предстает самой прочной. Оксюморонная ахматовская метафора отражает сложное,
изменчивое, динамическое состояние героини и ее мира. Это состояние, которое, с
одной стороны, постоянно меняется и может перейти в свою противоположность, а с
другой - «питается» единством этих противоположностей. «Стилистические
парадоксы, придающие поэзии Ахматовой особую остроту», прямо ведут «к
парадоксам психологическим и сюжетным», пишет в 1923 году Б. Эйхенбаум, обращая
внимание на то, что «героиня Ахматовой, объединяющая собой всю цепь событий,
сцен, ощущений, есть воплощенный «оксюморон» [33, с. 145]. Еще более
эпиграмматично скажет об этой стилевой ахматовской форме И. Бродский: «Ее
(Ахматовой) оружием было сочетание несочетаемого» [4, с. 28]. Например:
Под лампою зеленой,
С улыбкой неживой,
Друг шепчет…
(«Четки»: «…И на ступеньки встретить…») (с. 53)
Другая закономерность, которая поддерживает
стилевую интенцию парадокса, характерную для Ахматовой, и которой подчиняется
процесс создания метафор в ее стихе, может быть обозначена как конкретизация
отвлеченных понятий, «взятых» из сферы человеческих чувств и представлений, из
мира природы и т.п. Среди антропоморфных метафор (глагольных и атрибутивных) в
ахматовской поэзии преобладают метафоры, которые наделяют свойствами живых
существ понятия абстрактные:
...Надо мною блуждающий вечер...
(«Вечер»: «Хорони, хорони меня, ветер!») (с. 36)
…Все сильней биенье крови
В теле, раненном тоской…
(«Вечер»: «Рыбак») (с. 43)
…Или парк огромный Царского Села,
Где тебе тревога путь пересекла?
(«Четки»: «Голос памяти») (с. 61)
…Как меня томила ночь угарная,
Как дышало утро льдом.
(«Четки»: «Помолись о нищей, о потерянной…») (с.
64)
…Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах…
(«Вечер»: «Мне с тобою пьяным весело…») (с. 31)
…Смертный час, наклоняясь, напоит
Прозрачною сулемой…
(«Четки»: «Умирая, томлюсь о бессмертье…») (с.
67).
В двух последних случаях «олицетворение,
представленное как единый образ, может рассматриваться как комплексное
метафорическое соответствие реальной ситуации» [20, с. 146], как комплексное
метафорическое сочетание, создающее конкретный, персонифицированный образ.
Значимость таких сочетаний возрастает в более поздней поэзии Ахматовой.
В. Корона, исследуя природу подобных
художественных образов у Анны Ахматовой, отмечает их архетипичность, связанную
с понятием «Анима»:
«Этим словом мы обозначаем не «душу», а
архетипическую структуру, «одушевляющую» предметы и явления окружающего мира.
Возникновение этой архетипической структуры связано с возникновением человеческого
сознания, точнее - с осознанием себя как существа, наделенного «телом» и
«душой» или подразделяемого на указанные компоненты. В рамках этой структуры и
все окружающее мыслится как одушевленное. Эталоном «души» служит душа человека,
связанная с его телом, поэтому одушевленные предметы наделяются антропоморфными
признаками, в число которых входят и признаки строения человека, и особенности
его поведения. Одушевление природы выражается в художественном творчестве в
фигурах олицетворения» [15, с. 75].
В ахматовской лирике олицетворяется все - и
чувства («Прикинувшись солдаткой, выло горе...»), и явления природы
(«Заплаканная осень, как вдова...»), и отдельные предметы («Солнца древнего из
сизой тучи / Пристален и нежен долгий взгляд...») и т.п. Многочисленность и
разнообразие олицетворений, которыми буквально насыщен поэтический мир
Ахматовой, позволяет сделать вывод, что архетипическая структура Анима входит в
число основных механизмов его порождения.
Каждому явлению нематериального порядка Ахматова
пытается найти место в своем лирическом мире, ибо они для нее не менее важны и
реальны, чем те, что имеют материальную оболочку. Л. Гинзбург видит в этой
конкретизации неконкретного «неповторимое ахматовское видение мира, с его
всеобъемлющей точностью отвлеченных понятий» [7, с. 126]. Мы постоянно ощущаем
стремление Ахматовой подарить им «плоть», зримые и осязаемые формы, это одна из
существенных примет ее парадоксально-оксюморонного стиля и стоящего за ним
мироотношения, для которого характерно постоянное сближение дальних планов и в
«фактуре» реальности, и в ее нематериальной сфере, что ведет к пафосу
внеиерархической значимости разных и многих реалий мира и человеческих
состояний. Заметим, что этот пафос - главная установка акмеизма, реализующаяся
в поэзии Ахматовой с наибольшим успехом. Особенно важными для нее оказываются
следующие характеристики, поданные метафорически.
Во-первых, это протяженность в пространстве
(предельность - беспредельность, иначе - установление пределов - снятие их):
…И в ночи бездонной сердце учит
Спрашивать…
(«Вечер»: «И когда друг друга проклинали…») (с.
22).
Значимо и то, что ночь, то есть время,
осмысляется поэтессой в пространственных категориях. Метафора сводит вместе два
«чужих» смысла... Время и пространство соединяются в бесконечности, сливаются в
ней.
Во-вторых, формируется заполненность
пространства, его «непустота»:
…Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной...
(«Вечер»: «Память о солнце в сердце
слабеет...»)(с. 26)
Небо осознается как пространство, которое может
и должно быть заполнено. Оно должно включать в себя многое, пустота трагична по
своей сути.
В-третьих, Ахматовой необходимо ощутить вес
(весомость) самых «невесомых» вещей:
...Его любви, воздушной и минутной...
(«Вечер»: «Высоко в небе облачко серело...») (с.
26)
Последний луч, и желтый и тяжелый,
Застыл в букете ярких георгин…
(«Вечер»: «Вечерняя комната») (с. 41)
…Легкий месяц заблестел…
(«Вечер»: «Я пришла сюда, бездельница…») (с. 35)
…На землю саван тягостный возложен…
(«Вечер»: «Первое возвращение…») (с. 22)
…Он длится без конца - янтарный тяжкий день!..
(«Четки»: «Он длится без конца…») (с. 61).
Вес в ахматовском мире связан или с ценностью,
со значимостью того, о чем идет речь, или с его интенсивным эмоциональным
переживанием, являя степень последнего. Напряжение и энергия переживания
сообщают чувству материальную выраженность.
И в-четвертых, Ахматова метафорически постоянно
сосредоточивается на «ощутимом» способе существования в пространстве:
...И звенит, звенит мой голос ломкий,
Звонкий голос не узнавших счастья...
(«Вечер»: «Под навесом темной риги жарко...»)
(с. 36)
И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела…
(«Вечер»: «И когда друг друга проклинали…») (с.
22)
…Но я эту запомнила речь, -
Пусть струится она сто веков подряд
Горностаевой мантией с плеч.
(«Вечер»: «Читая Гамлета») (с. 21)
…Безветрен вечер и грустью скован
Под сводом облачных небес…
(«Четки»: «Прогулка») (с. 50)
И звенела и пела отравно
Несказанная радость твоя.
(«Четки»: «Как вплелась в мои темные косы…») (с.
70)
…С колоколенки соседней
Звуки важные текли…
(«Четки»: «Проводила друга до передней…») (с.
57)
Мы видим, что состояние человека неожиданно
раскрывается Ахматовой через конкретные, предметные представления. Так, насыщая
метафорический план «вещными» характеристиками, Ахматова достигает
проникновения во многие (и снова - резко контрастные) сферы бытия. На
пластичность изображения «непластичной» внутренней сферы - как на важный
принцип поэтики и стиля Ахматовой - обращает внимание еще в 20-е годы К.
Мочульский, когда пишет: «Пафос стихов Ахматовой - в живом восприятии
пространства, его измерений и отношений. <…> Даже психические состояния,
чувства и настроения - оформляет она пластически; так движения ее души вступают
в царство зримых, осязаемых форм» [18, с. 47]. И метафора, как мы убедились,
играет здесь не последнюю роль.
Так же значима для ахматовского стиля
метаморфоза - тропическое преобразование, воспринимаемое как переходное между
метафорой и сравнением.
В разнообразии метаморфоз у Ахматовой имеется
определенный порядок: «Этот порядок создается центрами притяжения,
трансформирующими любой предмет, попавший в зону их действия, в одну из
архетипических форм. Можно сказать, что развитие системы образов поэтического
мира (и системы поэтического языка) подчиняется «закону всемирного тяготения»,
действие которого тем заметней, чем ближе «центры тяжести» исходной и
производной формы» [15, с. 97].
Еще древние греки различали «предметные формы» и
«первоэлементы», из которых они построены. В категорию «первоэлементов» (“первосущностей”
или “стихий”) входят Огонь, Вода, Воздух, Земля. Выделение именно этих «стихий»
обусловлено, вероятно, тем, что ни одна из них не имеет определенной формы.
Естественно предположить, что первоэлементы,
подобно основным предметным формам, служат своеобразными центрами притяжения
при формировании образов поэтического мира. А поскольку это «первосущности», то
они должны проявляться либо в свойствах предмета, либо в соответствующих
операциях его преобразования (“сжигание”, “утопление”, “развеивание”,
“погребение”).
Многочисленны примеры подобных
превращений-метаморфоз в лирике Ахматовой, причем один и тот же “предмет”
принимает, как правило, различные формы. «Зачем притворяешься ты / То ветром,
то камнем, то птицей...», - говорит лирическая героиня, обращаясь к Музе. Не
только «готовые формы», но и составляющие их «первоэлементы» часто проявляют
качества других элементов. Огонь (свет) «капает», как Вода: «Сквозь инея белую
сетку / Малиновый каплет свет...»; Ветер опаляет, как Огонь: «Уже душистым раскаленным
ветром / Сознание мое опалено...», льется, как Вода: «И ветер в круглое окно /
Вливался влажною струею...», и стучит, как Камень: «Лишь ветер каменного века /
В ворота черные стучит...».
Воздух, как важнейший «первоэлемент» у
Ахматовой, становится заметен, когда он в недостатке или в избытке. Недостаток
воздуха вызывает одышку. Лирическая героиня Ахматовой постоянно испытывает это
ощущение: «Задыхаясь, я крикнула: - Шутка....», «Странно вспомнить, душа
тосковала, / Задыхалась в предсмертном бреду...», «Дай мне горькие годы недуга,
/ Задыханья, бессонницу, жар...», «Горло тесно ужасом сжато...». Обилие
«задыханий» в раннем творчестве отображает, вероятно, внетекстовый контекст:
Ахматова в детстве болела туберкулезом.
Избыток воздуха ощущается как его движение -
Ветер. Ветер и является внутритекстовым отображением “первоэлемента” Воздух. С
Ветром лирическую героиню связывают особые отношения:
Хорони, хорони меня, ветер!
Родные мои не пришли,
Надо мною блуждающий вечер
И дыхание тихой земли.
Я была, как и ты, свободной,
Но я слишком хотела жить.
Видишь, ветер, мой труп холодный,
И некому руки сложить.
Закрой эту черную рану
Покровом вечерней тьмы
И вели голубому туману
Надо мною читать псалмы.
(«Вечер»: «Хорони, хорони меня, ветер!..”) (с.
36)
Одного этого примера достаточно, чтобы сделать
вывод: лирическая героиня - это Ветер в его антропоморфной форме. Их общий
признак - свобода. Ветер продолжает веять, а лирическая героиня остановилась в
своем движении и потому умирает. На родство с Ветром указывают и другие
признаки. Ветер заменяет «родных» и выступает в роли ближайшего друга, которому
поручается «прибрать» умершую («сложить руки», «закрыть рану»), организовать
отпевание («вели... читать псалмы») и «похоронить». Эти качества, но уже по
отдельности, Ветер проявляет и в дальнейшем: «Даже ветер со мною на ты...». Так
ведет себя бесцеремонный собеседник или ближайший друг.
Итак, аэроморфная трансформация является
(хронологически) первой, которую претерпела лирическая героиня. Поэтому,
вероятно, о превращениях в Ветер больше не говорится, а подчеркиваются,
напротив, его антропоморфные качества или упоминается о незавершенных
трансформациях в другие предметные формы.
Ветер, подобно Человеку, «бродит» по парку и
«радуется» одиночеству: «Бродит ветер, безлюдию рад...». Подобно Птице, он
«кричит и мечется среди ветвей»: «Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв, /
Кричит и мечется среди ветвей...». Он бывает похож на Растение: «Там ветер на
вереск похож...».
Основываясь на сказанном выше, мы можем
обозначить специфику ахматовской метафоры, которая, не размывая семантические
границы слов, служит созданию конкретного и вместе с тем многогранного образа.
Именно такая метафора складывается в поэзии Ахматовой, не нарушая той
«осторожной продуманной мозаики», которая приходит на смену «многообразным
магическим ассоциациям, затемняющим смысл слов» [33, с. 87]. Ахматова избегает
метафор, отклоняющихся от простоты и точности. Ее стих боится излишеств, и в
этой его сдержанности, которая удивительным образом совмещается с его обостренной
контрастностью, одна из важных особенностей ее поэтического стиля. Ахматовой
чужды те «романтические метафоры, которые сама поэтесса впоследствии иронически
обозначает в «Снежной маске» Блока как «звездную арматуру» [10, с. 87].
Ахматовская метафора - это «земная метафора, созидающая мир здешний и
утверждающая его как самоценный и значимый. Метафоры у Ахматовой чаще
представляют собой «россыпи», а не сложные метафорические темы, когда одна
метафора оказывается сюжетной образующей целого стихотворения (см., например,
«Три раза пытать приходила...» (с. 38); «Углем наметил на левом боку...» (с.
63); или рассмотренное выше «Хорони, хорони меня, ветер»). Безусловно, на том,
как Ахматова вводит метафору в текст, сказалось изменение ее отношения к слову.
«Словесная перспектива сократилась, смысловое пространство сжалось, но
заполнилось, стало насыщенным. <...> Речь стала скупой, но интенсивной»
[33, с. 87].
2. ФУНКЦИИ АХМАТОВСКОЙ МЕТАФОРЫ В
СТРУКТУРЕ ЕЕ СТИХА
Таким образом, мы вплотную подошли к вопросу о
соотношении метафорического и неметафорического слова в пределах одного
стихотворения Ахматовой, т. е. к вопросу о месте метафоры в структуре ее стиха.
Речь идет о тех случаях, когда метафора организует не все формально-смысловое
пространство стиха, а только его фрагменты, что для ахматовской поэзии особенно
характерно. Функция метафоры здесь тоже обусловлена стилевой манерой Ахматовой
(сдержанно-лаконичной и одновременно напряженной) и тем характером лирического
«я», который она создает в своей поэзии. В этой связи важно вспомнить, как Б.
Эйхенбаум пишет (1921) о ее стиле: «Основная манера Ахматовой, особенно
развитая ею в «Четках», выражается в сочетании разговорной или
повествовательной интонации с поэтическими вскрикиваниями. Эти вскрикивания
либо заключают собой стихотворение, образуя патетическую концовку, либо
являются в середине, а иногда и начинают собой движение интонации» [33, с.
110]. В сознании читателя-слушателя вырастает образ лирической героини, которая
почти никогда не пребывает в спокойном состоянии. Она предстает перед нами чаще
всего в кризисные моменты своей судьбы: взлета или падения, первого
предчувствия или свершившегося разрыва, смертельной опасности или бесконечной
тоски, т.е. в те моменты, когда чувства обостряются предельно. Отсюда те
«вскрикивания», о которых говорит Эйхенбаум. Чувства нагнетаются, достигают в
своем развитии максимума, высшей точки, и наступает минута, когда ахматовская
героиня уже не в силах скрыть их. Она не может более выдержать такого
напряжения, и все, что прячется за «играемым» спокойствием, прорывается и
становится явным. Особо значимо в этом отношении замечание Л. Гинзбург:
«Ахматова создает лирическую систему - одну из самых замечательных в истории
поэзии, но лирику она никогда не мыслит как спонтанное излияние души. Ей нужна
поэтическая дисциплина, самопринуждение, самоопределение творящего» [7, с.
125].
Действительно, Ахматова подводит свою лирическую
героиню к той грани существования, когда, возможно единственное: сказать или
умереть. И вот здесь, в момент такого «вскрика» или же, наоборот, резкого
понижения интонации в ахматовских стихах возникает метафора, уводящая в
«непроговоренную» сущность лирического переживания. Количественно редкая
ахматовская метафора, обозначая «скрытые» связи и концентрируя глубинный смысл
лирической ситуации, получает дополнительную и очень ощутимую семантическую
нагрузку. Именно через метафору лирическая героиня Ахматовой высказывает себя,
выражает не столько то, что идет от мира внешнего, сколько от ее внутреннего
состояния. Так она выдает себя, открывая самые тайные и «непроизносимые» свои
переживания. Обратим внимание на то, что сущность метафоры как таковой, по
наблюдениям исследователей, «в определенной мере связана со стремлением
передавать непосредственность восприятия, мгновенно или кратковременно
длящегося, стихийность естественной внутренней речи <...> Метафору дает
быстрая, мгновенная фиксация сиюминутного состояния действительности - такой,
какой она предстает под влиянием сильного чувства, обостряющего зрение и обновляющего
восприятие предметов, которые в этот момент становятся необычными» [19, с.
24-25]. Эта особенность метафоры чрезвычайно ярко проявляется в поэзии
Ахматовой, чей стиль оказывается способным усилить и обострить метафорические
возможности слова. Необходимо отметить, что в такой (стихийной,
непосредственной - и потому фрагментарной) позиции мы встречаем у Ахматовой
сильные метафоры, среди которых особенно значимы субстантивные метафоры и
метафорические сочетания разных типов (под сильными метафорами мы подразумеваем
оригинальные, стилево окрашенные, ахматовские метафоры).
В связи со всем выше сказанным становится
очевидным то, что фрагменты текста, организованные подобным - «разовым»,
«вспыхивающим» - образом, участвуют в сюжетном строе стиха поэтессы и, может
быть, даже его определяют. Вот, например, одно из ее стихотворений:
Память о солнце в сердце слабеет.
Желтей трава.
Ветер снежинками ранними веет
Едва-едва.
В узких каналах уже не струится -
Стынет вода.
Здесь никогда ничего не случится, -
О, никогда!
Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.
Память о солнце слабеет.
Что это? Тьма?
Может быть!.. За ночь прийти успеет
Зима.
(«Вечер»: «Память о солнце слабеет…») (с. 26).
В приведенном стихотворении складывается
трехчленная композиция, которая организует его лирический сюжет. В первой части
стиха разворачивается лирическое слово, очень близкое к повествованию -
интонация движется здесь относительно спокойно. Можно даже сказать, что она в
какой-то степени оказывается констатирующей, хотя за ней ощущается глубоко
спрятанный надрыв, или, скорее, - это наигранное спокойствие. Начальная часть
сюжета занимает достаточно большое стиховое пространство (два катрена), и тем
неожиданнее оказывается переход к дальнейшему сюжетному развертыванию.
Последняя строка второго катрена уже усиливает напряженность лирического
переживания (Здесь никогда ничего не случится - /о, никогда!), готовящая его
кульминацию. И далее - во второй части движения сюжета - возникает столь
необходимая автору самая высокая нота - результат того, что чувство уже не
может себя скрыть и лирическая героиня не может его «не выговорить». По словам
Б. Пастернака, «прямая речь чувства иносказательна, и ее нечем заменить» [21,
с. 174]. Не случайно именно здесь появляется очень сильное метафорическое
сочетание, которое уводит нас от слов к глубинным внутренним представлениям и
эмоциональным состояниям. Ритм стиха в этой «точке» сбивается, и возникает
иллюзия «вскрика» (Б. Эйхенбаум) или «перехваченного горла» (И. Бродский).
Чувство «пустоты» и «распластанности» предстает здесь в высшей мере
проявленным. Лирическая героиня Ахматовой, изначально пытающаяся скрыть свое
глубокое страдание, открывает, высказывает себя. Острота ее переживания,
выражаясь более всего метафорой, усиливается также идущей следом за метафорой
неметафорической строкой (Может быть, лучше, что я не стала / Вашей женой) с ее
затихающей интонацией, интонацией слома «лирического дыхания». Последняя часть
стиха сводит вместе обе его тональности - «криковую» и «шепотную». Поэтому
финальная интонация стихотворения звучит по-новому: она снова становится
спокойной, но это - трагическое спокойствие смерти, ее равнодушие.
Так, установка на интонацию у Ахматовой
выступает основным принципом построения ее стиха. «Становится ощутимым, - пишет
Б. Эйхенбаум, - самое движение речи - речи как произнесения, как обращенный к
кому-то разговор, богатый мимическими и интонационными оттенками». И далее:
«Стихотворная напевность ослаблена. Ритм входит в самое построение фразы -
является чисто речевым. Является особая свобода речи, стих выглядит как
непосредственный, естественный результат взволнованности» [33, с. 88]. Как мы
можем наблюдать, ритмико-интонационный рисунок этого стихотворения подчиняется
«ритму его лирического смысла», предельно контрастному пульсирующе-напряженному
ахматовскому стилю, который несет в себе «ритм лирического смысла» стиха.
Центральная часть стихотворения (3-й катрен), в начале которой явлена метафора,
настолько выделяется своей интонационной силой, что служит композиционным ядром
стиха, оказывая влияние на все остальные его элементы. То лирическое состояние,
которое предельно выражено в 3-м катрене, исподволь растворено в начальной
части стихотворения и окрашивает его концовку. И, как мы видим, именно метафора
призвана здесь разрабатывать трагическое лирическое состояние, наполняющее
произведение, чем обусловлено ее центральное место в строении поэтического
текста. Как правило, она вводится у Ахматовой или в самом конце стихотворения,
или близко к нему. В музыке существует такое понятие, как КАДАНС, что означает
гармонический или мелодический оборот, завершающий произведение. Применительно
к позиции сильной метафоры в поэзии Ахматовой это понятие оказывается
чрезвычайно органичным, ибо в ахматовском поэтическом тексте сильная метафора
чаще всего находится в положении ПРЕДКАДАНСА (реже КАДАНСА). Стихов такого
плана у Ахматовой достаточно много (особенно в «Вечере» и «Четках»). Приведем
еще одно:
Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.
Вырываю и бросаю -
Пусть простит меня.
Вижу, девочка босая
Плачет у плетня.
Страшно мне от звонких воплей.
Полоса беды.
Все сильнее запах теплый
Мертвой лебеды.
Будет камень вместо хлеба
Мне наградой злой,
Надо мною только небо,
А со мною голос твой.
(«Вечер»: «Песенка») (с. 34).
Ахматова и здесь вводит метафорическое
сочетание, находящееся в позиции ПРЕДКАДАНСА. Важно и то, что в этом
стихотворении (3-й, «метафорический катрен») меняется число ударных слогов,
возникает длинная строка, чем укрупняется и «напрягается» метафора. Поэтесса
находит именно такую форму (снова метафора) для выражения состояния, в которое
погружается ее лирическая героиня, предчувствующая ту страшную беду, что
неминуемо должна случиться. Метафора до конца обнажает накаленную лирическую
ситуацию, когда в стихотворение врывается сдерживающий себя, но не способный
унять боль голос, за которым стоит хрупкий внутренний мир живой человеческой
души: ей кажется, что беда «вопит» о своем приближении, и поэтому вырванная
лебеда переживается как «мертвая». Душа лирической героини, мучаясь и страдая,
неожиданно открывает себя через метафору, которая акцентирует сложные связи,
складывающиеся и обостряющиеся в человеческом сознании - в ситуации ожидаемой
драмы. Метафора, таким образом, весьма часто предстает кульминационной точкой
сюжетного движения ахматовского стиха. «Между предметно-событийными
компонентами и моментом постижения эмоционального состояния героини,
лирического Я, расстояние оказывается предельно-кратким и обычно
напряженно-неожиданным» [2, с. 31]. Последние строки стихотворения говорят уже
об итоге, к которому приходит «лирическая душа» Ахматовой, пройдя через
испытание. Личное восходит здесь к общему, всечеловеческому. Интонация стиха -
после его кульминации - меняется, становится тише, размереннее, обретая почти
библейское звучание. «Стихи ... Ахматовой, - как справедливо пишет Н. Скатов, -
подобно многим произведениям Достоевского, являют свод пятых актов трагедий.
Поэт все время стремится занять позицию, которая позволяла бы предельно
раскрыть чувство, до конца обострить коллизию, найти последнюю правду» [23, с.
11], что тоже диктуется стилем. Стилевой строй лирики Ахматовой характеризуется
и в этом его проявлении обостренным контрастом: сильным внутренним напором
чувства и строгостью внешнего сдерживающего его выражения. Этот контраст
открывает особый принцип поэтической культуры, несомый стихом Ахматовой. Не
случайно Ю. Тынянов говорит (1924), например, о том, что Ахматова ценна и нова
«не своими темами, а несмотря на свои темы <...>», и о том, что
ахматовская тема «жива каким-то своим интонационным углом стиха, под которым
она дана» [29, с. 174]. И опорой ее «интонационных углов» оказывается ее
парадоксально построенная метафорическая форма, столь закономерная для стиля и
мышления автора. Не случайно финал стихотворения, когда метафора стоит в
позиции КАДАНСА, как правило, остается у Ахматовой открытым. (См., например,
«Вечер»: «Под навесом темной риги жарко...», с. 36). Стихотворение в этом
случае заканчивается на самой высокой ноте, и этой «нотой» оказывается
метафора.
Позиции ПРЕДКАДАНСА и КАДАНСА не являются
единственными для сильных метафор в стихе Ахматовой. Мы можем встретить
оригинальную, собственную авторскую метафору и в начале ее поэтического текста,
но такие тексты чаще всего имеют другую сюжетно-композиционную структуру. В
этой связи можно говорить о двух типах ахматовских стихотворений.
Во-первых, это стихи торжественно-драматического
плана, представляющие собой восьмистишия и обладающие особой смысловой
законченностью и «сгущенностью». Назовем, например, стихотворение «Первое
возвращение» («Вечер», с. 22), где метафора дается Ахматовой сразу, в первой
строке, которая формирует общую высокую тональность текста, включающую в себя
страдающую и трагическую ноту надвигающегося конца мира:
На землю саван тягостный возложен,
Торжественно гудят колокола,
И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского села.
Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.
Последняя строка стихотворения тоже содержит в
себе метафору. Тема смерти и конца мира, заданная в его первой строке,
раскрывается, а потом упрочивается в финале. Первая метафора начинает
ассоциативно развертываться, подчиняя себе все словесные элементы текста, здесь
возникает образно-метафорическое кольцо - прием, к которому Ахматова будет
обращаться нередко.
Во-вторых, сильная, стилево окрашенная метафора
возникает в начале тех ахматовских стихов, которые по своему настроению
оказываются особо цельными. Лирическое состояние в них не развивается, но
является сформированным и потому - чаще всего - статичным. В таких стихах
метафоры, рождаясь в первых строках, как бы цепляются одна за другую, образуя костяк
стихотворения и выстраивая его единство - противостояние:
И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала,
И что память яростная мучит;
Пытка сильных - огненных недуг! -
И в ночи бездонной сердце учит
Спрашивать: о, где ушедший друг?
А когда сквозь волны фимиама,
Хор гремит, ликуя и грозя,
Смотрят в душу строго и упрямо
Те же неизбежные глаза.
(«Вечер»: «И когда друг друга проклинали…») (с.
22).
Единство и цельность лирического состояния,
выраженного через сближение метафор, являющих и объединяющих лирическое
ахматовское многоголосие (голоса страсти, памяти, ночи, хора, а также сводящие
их вместе голоса лирической героини и ее любимого), подчеркивает и
синтаксическая конструкция стиха. Он состоит из двух предложений, разделение
которых весьма условно. Это скорее одна сжатая - и единым порывом, единым
чувством рожденная фраза.
Стихотворение может и не быть таким
«концентрированным» по своему синтаксическому и смысловому строю, оно формируется
как очень устойчивое и цельное в характерной для Ахматовой «полюсной», но в
целом - единой тональности (ухода, беды, немоты), что проявляется, например, в
стихотворении «Сад» («Вечер», с. 45):
Он весь сверкает и хрустит,
Обледенелый сад.
Ушедший от меня грустит,
Но нет пути назад.
И солнца бледный тусклый лик -
Лишь круглое окно;
Я тайно знаю, чей двойник
Приник к нему давно.
Здесь мой покой навеки взят
Предчувствием беды,
Сквозь тонкий лед еще сквозят
Вчерашние следы.
Склонился тусклый мертвый лик
К немому сну полей,
И замирает острый крик
Отсталых журавлей.
Грусть об ушедшем человеке предстает в картине
мира, померкшем в этом состоянии. В сущности, вся основная метафорическая часть
стиха задается метафорой «солнца бледный тусклый лик», хотя начато оно
противостоящим метафорическим образованием - «хрустящего и сверкающего»
обледенелого сада. Ахматова играет смыслами, создает ассоциативный
метафорический ряд, и в финале стихотворения метафора, претерпевшая
метаморфозу, оборачивается «тусклым мертвым ликом» - уже не солнца, а человека.
Высокая «звенящая» нота повествования взята Ахматовой с самого начала стиха, но
его лирическая напряженность не только не ослабевает по ходу его сюжетного
развертывания, но, наоборот, нарастает: интонация становится пронзительной;
лирическая героиня, переживающая трагедию потери близкого человека, находится
на пределе страдания и не в силах скрыть это состояние. Все стихотворение
представляет собой единый эмоциональный «выплеск» лирического «я» Ахматовой,
который снова претворяется метафорически.
Итак, в данной части работы мы попытались
выявить некоторые сюжетно-композиционные модели самых ранних стихов Ахматовой,
приняв их за инварианты, которые могут трансформироваться и действительно
трансформируются в ахматовской поэзии дальнейших лет. Как мы стремились
показать, оригинальная контрастно-ассоциативная метафора поэтессы максимально
выявляет парадоксы ее лирического стиля, который открывает и парадоксы (резкие
«перепады», сбои, интенсивные изменения) наполняющего ее стихи лирического
смысла. Но мы не вправе обойти вниманием и так называемую традиционную метафору
и не сказать о ней в заключение несколько слов, в связи с ее местом в поэтике
ахматовского стиха; и хотя ранее уже говорилось о некоторых особенностях ее
существования в поэтическом тексте Ахматовой, в настоящий момент нам важно
упомянуть об особой функции, которую берет на себя традиционная ахматовская
метафора. Речь идет о том, что в ряде случаев поэт композиционно так строит
стихотворение, что привычная метафорика открывает его сюжет, являясь
своеобразной экспозицией, введением в лирическую тему того или другого текста.
Например, мы видим этот принцип построения лирического сюжета в стихотворении
«Сжала руки под темной вуалью...» («Вечер», с. 25):
Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».
Традиционная метафора в этом стихотворении
задает лирическое настроение стиха, которое далее раскрывается Ахматовой
подчеркнуто неожиданным образом. Так, финал дает новый поворот «старой»
метафоры и «старой» темы. Привычный, даже тривиальный метафорический образ,
задающий точку отсчета, лирической динамики стихотворения, получает здесь иную
поэтическую интерпретацию: возникает контрастный начальному (смятенный,
потерянный, трагический в своей неявной выраженности) лирический смысл. Так
строй метафорической ахматовской образности, рассматриваемый в контексте других
компонентов ее поэтики и, главное - в свете ее стиля, обнаруживает
существеннейшее явление литературного движения, в ходе которого новая
поэтическая культура рождается на фоне традиционной метафорической образности.
При этом она не просто продолжает «старую» художественную культуру, но вступает
с ней в диалог, занимая по отношению к ней позицию «полемической
трансформации».
3. МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЛЮБОВЬ -
ЗМЕЯ» В ПОЭТИКЕ А. АХМАТОВОЙ
Л. Гинзбург писала об Ахматовой: «Ей присуще
необычайно интенсивное переживание культуры (...). В творчестве Ахматовой
культура присутствует всегда, но по-разному... В ранних (стихах) она скрыта, но
дает о себе знать литературной традицией, тонкими, спрятанными напоминаниями о
работе предшественников» [7, с. 126]. Так, старая поэтическая культура
выступает в ранних стихах Ахматовой одновременно и как материал для стилизации,
и как основание для построения новой культуры стиха через диалог-спор,
диалог-преобразование сложившейся ранее традиции [32, с. 7]. Следует попутно
отметить, что ориентация на уже существующие тексты вообще характерна для тех,
кто вышел из акмеизма (см.: [27, с. 65-75]). У Ахматовой эта установка
реализуется, как нам думается, особенно органично - в русле ее стиля и видения,
а именно - с опорой на «странные», парадоксальные, часто скрытые антитезы,
соотнесения и переклички.
В этом разделе, на примере метафорического
комплекса «Любовь-змея», рассмотрим особенности развития (усложнения) в поэтике
А. Ахматовой традиционной для русской поэтической традиции метафоры «любви -
ядовитой страсти», которое можно представить как нарастание и разветвление ее
до сложной метафорической структуры. Поэтому в рамках данного раздела нам важно
обобщенное и расширенное, контекстуальное (оно же концептуальное) понимание
метафоры [25, с. 458]. Эта метафора, соединяющая разные стихотворные тексты и
временные пласты через лирическое, ценностное сознание поэтессы, обретает
структуру и значение художественного символа, открывая нам свои бесконечные
смыслы порой за пределами конкретного текста. Тем самым, естественно,
открываются и бесконечные возможности интерпретации произведения.
Сама Ахматова предполагала именно такой подход к
изучению своего творчества: «Чтобы добраться до сути, надо изучать гнезда
постоянно повторяющихся образов в стихах поэта - в них и таится личность автора
и дух его поэзии» (с. 443).
Метафорический комплекс «Любовь-змея» появляется
в первом произведении, (в первом издании) открывающем первую книгу стихов А.
Ахматовой «Вечер», и выступает в качестве первой приметы Любви:
ЛЮБОВЬ
То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует.
То в инее ярком блеснет,
Почудится в дреме левкоя...
Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.
Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке (с.23).
Прежде чем обратиться к исследованию развития
комплекса «Любовь - змея», попробуем разобраться, каково же наполнение
авторского ахматовского понятия «гнездо повторяющегося образа».
Итак, в данном стихотворении ядро авторского
словообраза - понятие «Любовь», содержание которого раскрывают семь ее примет.
Каждая из этих примет - сложный метафорически преобразованный образ, поэтому
ограничимся перечнем только упомянутых или подразумеваемых в его структуре
существенных признаков.
Первые два образа достаточно очевидны - это
«змейка», свернувшаяся «клубком», и «воркующий голубок». Обозначим
соответствующие приметы элементами Змея и Голубь.
Третий образ - «яркий блеск инея». Исходя из
того, что иней блестит в лучах солнца, будем считать Солнце самым «существенным
признаком» третьей приметы.
Четвертый образ - Спящий Цветок (левкой).
Пятая примета представлена не предметом, а
действием: Любовь «верно ведет». Это действия поводыря, поэтому «существенным
признаком» этого образа будем считать подразумеваемое присутствие Поводыря.
Шестая примета - умение «сладко рыдать». Такими
способностями обладает Плакальщица.
Седьмая примета - «незнакомая улыбка». Очевидно,
эта «улыбка» принадлежит будущему Возлюбленному.
Выделение существенного признака раскрывает
смысл образа, но маскирует связи, соединяющие его с другими образами этого же
произведения. Поэтому, помимо существенного, будем указывать дополнительно один
из атрибутивных признаков образа. Атрибутивными признаками в данном случае мы
называем те, благодаря которым осуществляется рифменное сближение
разнокачественных элементов. Змею, например, сближает с Голубем форма ее тела
(рифма «клубком-голубком»), а Спящий Цветок (левкой) сближает с Поводырем
«исходный пункт», из которого начинается движение (рифма «левкоя - от покоя»).
У Поводыря имеется еще один атрибутивный признак - совершаемое им действие,
сближающее его с Солнцем (рифма «блеснет - ведет»).
Структурная формула этой связи приобретает
следующий вид:

Рис. 1
Схема показывает, что все семь «примет любви»
попарно рифменно сближаются на внешней поверхности оболочки. Рифма организуется
преимущественно за счет атрибутивных признаков.
Создается впечатление, что автор для того только
и усложняет образ, чтобы включить в его состав атрибутивный признак,
позволяющий сблизить его с любым другим образом. Образ предстает как
инвариантная структура, вариантами воплощения которой могут быть самые
различные признаки и их сочетания.
Общее число признаков любого образа бесконечно,
но часть из них всегда характерна именно для данного образа. Змея, например,
может сворачиваться в клубок или разворачиваться в ленту, но не может цвести и
благоухать, как Цветок (разве что в переносном смысле). Возможно, именно этот
набор признаков Ахматова и называла «гнездом образа».
Если наша догадка верна, то перед нами не только
перечень примет Любви, но и перечень тех «гнезд», которые «свила» себе эта
«птица» в поэтическом мире Анны Ахматовой. Не углубляясь сейчас в эту тему,
наметим ее контуры.
Первое гнездо: змейка, свернувшаяся клубком у
самого сердца. Спустя 30 лет подразумеваемая ситуация превращается в
«реальную»:
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.
«Клеопатра», 1940
Второе гнездо: голубок, воркующий на белом
окошке. Спустя 33 года реализуется и эта ситуация:
Не я к нему, а он ко мне -
И голуби в окне...
«Встреча», 1943
Третье гнездо: яркий блеск инея. Спустя всего
четыре года «яркий блеск» превращается в «неистовое сияние»:
Где венчались мы - не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.
«Будем вместе, милый, вместе...», 1915
Четвертое гнездо: «дрема левкоя» (Спящий
Цветок). Встречи лирических героев происходят, как правило, во сне:
Ты шел, не зная пути,
И думал: “Скорей, скорей,
О, только б ее найти,
Не проснуться до встречи с ней”.
«Сон», 1915
или, спустя почти полвека:
А мне в ту ночь приснился твой приезд.
«Сон», 1956
А «спящему» левкою предшествует целый букет, с
которым лирическая героиня идет на свидание:
Я несу букет левкоев белых.
Для того в них тайный скрыт огонь,
Кто, беря цветы из рук несмелых,
Тронет теплую ладонь.
«Обман», 1910
Пятое гнездо: Поводырь, уводящий «от радости и
от покоя». Любовь, как известно, «ослепляет», а альтернатива «радости и покоя»
- горе и беспокойство. Достройкой этого гнезда будет образ блуждающего и
тоскующего «слепца». С учетом достройки легко представить, насколько
многочисленны варианты воплощения этой группы образов. Ограничимся одним
примером:
И печальная Муза моя,
Как слепую, водила меня.
«Был блаженной моей колыбелью...», 1914
Напомним, что действие происходило в «городе»,
который был для лирической героини «И торжественной брачной постелью».
Шестое гнездо: Плакальщица-скрипка.
А скорбных скрипок голоса
Поют за стелющимся дымом:
“Благослови же небеса -
Ты первый раз одна с любимым”.
«Вечером», 1913
Седьмое гнездо: улыбка Незнакомца (будущего
возлюбленного).
Я чужому ответила: “Нет!”
А как свет поднебесный его озарил,
Я дала ему руки мои,
И он перстень таинственный мне подарил,
Чтоб меня уберечь от любви.
И назвал мне четыре приметы страны,
Где мы встретиться снова должны...
«По неделе ни слова ни с кем не скажу...», 1916
Мы ограничились единичными примерами повторения
каждого гнезда, хотя в тексте подобных автоповторов многие десятки. Но и
сказанного достаточно, чтобы увидеть главные отличительные признаки авторской
метафорической системы образов. Во-первых, эта система устанавливается с самого
начала (у ранней Ахматовой - буквально с первого произведения) и устойчиво
сохраняется на протяжении всего творчества.
Во-вторых, авторский образ не сводится к
отдельному слову или предложению, а представляет собой именно гнездо,
понимаемое как переплетение признаков определенного авторского понятия.
В-третьих, «гнезда постоянно повторяющихся
образов» не рассеяны хаотично, а собраны самим автором в «гроздья». Семилучевая
веерная связь - пример семигнездной грозди.
В-четвертых, развитие образа состоит в
актуализации внутренне присущих ему признаков. Имманентный признак Змеи - Жало,
поэтому рано или поздно она должна ужалить, умертвить жертву. Логика
актуализации имманентных признаков образа - это и есть логика их порождения.
Рассмотрим развитие и усложнение данного образа
лишь в одном направлении «Любовь - змея». Напомним, что данное «гнездо»
выступает в качестве первой приметы Любви:
То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует...
«Любовь», 1911 (с. 23).
Выделим в этой примете только предметную форму
образа (Змея) и рассмотрим ее эволюцию.
У змеи в обыденном представлении имеется
ядовитое жало, укол которого смертелен. Можно предполагать, что в процессе
развития образа это «жало» появится и произведет ожидаемое действие («уколет»
или «ужалит»), что повлечет за собой смерть пострадавшего.
И действительно, «отравленное жало» появляется в
этой же книге, но не у Змеи, а у Осы, которая, как и ожидалось, «колет»
лирическую героиню:
Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
Уколола палец безымянный
Мне звенящая оса.
Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она.
Но конец отравленного жала
Был острей веретена.
О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо (с. 29).
Это произведение написано в том же году, но
девятью месяцами ранее, чем «Любовь», поэтому хронологически первым следует
считать образ Любовь-оса. Вероятно, из этой Осы, которая уже тогда казалась
«умершей», выросла Змея, ассоциативно наделенная тем же главным признаком -
«острым» и «отравленным» Жалом. Руководствуясь этим общим признаком, можно
сказать, что Любовь, в первую очередь - это Жало, а уже во вторую - Оса или
Змея. Итак, исходная структура имеет вид:
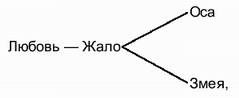
Рис. 2
Две формы воплощения образа Жала намечают две
линии развития образа Любви. Линия Осы ведет к «помешательству» и, возможно,
замужеству. На это указывает «гладкое (обручальное) кольцо» на безымянном
пальце - своеобразная целительная «повязка» на «любовной ране». Линия Змеи
ведет к смерти.
Второй и последний раз Оса появляется во второй
книге:
…Любо мне от глаз твоих зеленых
Ос веселых отгонять...
«Каждый день по-новому тревожен...», 1913 (с.
59).
Больше «веселых ос» не встречается. Более того,
похоже, Оса все-таки «умерла» еще в первой книге, причем довольно своеобразно:
…Над засохшей повиликою
Мягко плавает пчела;
У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла...
«Я пришла сюда, бездельница...», 1911 (с. 35)
Речь идет о смерти русалки, но «рифменно
умирает» именно Пчела («пчела-умерла»), которая «функционально подобна» Осе.
А Змея («змейка») во второй и последний раз
упоминается только 30 лет спустя в шестой книге:
А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете - еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.
«Клеопатра», 1940 (с. 183)
«Черная змейка», как и первая, появляется «у
самого сердца» уже в прямом смысле. Почти прямо говорится и о выпущенном «жале»
(общий рифмо-паронимический корень в слове ЖАЛОсть). Линия Змеи близка к
завершению - Клеопатра готовится умереть.
Примером промежуточного воплощения той и другой
линии является «Отрывок»:
Словно тронуты черной, густою тушью
Тяжелые веки твои.
Он предал тебя тоске и удушью
Отравительницы любви.
Ты давно перестала считать уколы -
Грудь мертва под острой иглой.
И напрасно стараешься быть веселой -
Легче в гроб тебе лечь живой.
Отрывок, 1912 (с. 55)
Лирическая ситуация сильно напоминает последний
день Клеопатры. Веки лирической героини словно подведены «черной, густой
тушью», а веки египетской царицы были реально покрыты густой тушью, только не
черной, а красной, по моде того времени. Лирическая героиня «старается быть
веселой», а Клеопатра собирается «пошутить». Клеопатра исполняет то, что советует
лирической героини «обидчик», - ложится заживо в гроб, но еще только готовится
к уколу змеиным жалом, а грудь лирической героини уже исколота и давно «мертва
под острой иглой». Не этот ли «Отрывок» получил завершение в «Клеопатре»?
Возвращаясь к змеиному жалу как наиболее существенному атрибуту Змеи, заметим,
что и оно появляется уже в первой книге:
Ты поверь, не змеиное острое жало,
А тоска мою выпила кровь.
В белом поле я тихою девушкой стала,
Птичьим голосом кличу любовь.
Ты поверь, не змеиное острое жало..., 1912 (с.
37)
Но это «жало» уже не подобно швейной игле или
острому концу веретена, а больше напоминает полую иглу шприца, с помощью
которой можно не только впрыскивать, но и отсасывать. На эту возможность
указывает сравнение змеиного жала с «тоской», выпивающей кровь.
Итак, змеиное жало такое же «острое», как
осиное, но действует другим образом: оно не впрыскивает в тело отраву, а
«выпивает кровь». Руководствуясь этим отличием, можно проследить дальнейшее
развитие линий Осы и Змеи даже в тех случаях, где эти образы не упомянуты.
Например, явным продолжением линии Змеи является следующая ситуация:
Как соломинкой, пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.
Но я пытку мольбой не нарушу.
О, покой мой многонеделен.
Как соломинкой, пьешь мою душу..., 1911 (с. 28)
А ее завершением можно считать «Последнее
стихотворение», написанное почти полвека спустя:
Но это!.. по капельке выпило кровь,
Как в юности злая девчонка - любовь.
Последнее стихотворение, 1959 (с. 192)
Примечательно, что повторяется не только мотив
«выпивания», но и рифма «кровь-любовь», впервые использованная в ситуации с
«тоской» и «острым змеиным жалом». Эта рифма, на которую мы первоначально не
обратили внимания, указывает, по существу, на еще одну линию развития образа,
на линию Крови.
Самую первую развилку маркируют образы Жала и
Крови, а образами Осы и Змеи отмечена уже вторая развилка.
Развитие структуры происходит не только в
направлении дальнейшего ветвления намеченных линий, но и путем их соединения.
Исходную структуру исследуемого метафорического
комплекса следует представить в виде:
лирика ахматова метафорический
комплекс

Рис. 3
Первой соединительной линией служит образ Тоски.
Можно сказать, что первоначально в тело лирической героини погружено «жало
тоски», с помощью которого Некто «выпивает» из нее «кровь». Затем появляется
вторая «полая игла» - «жало соломинки», через которую Некто «пьет» ее «душу».
Больше о нем не вспоминается: «Кто ты: брат мой или любовник, / Я не помню, и
помнить не надо». Третье «жало» - некая «злая девчонка» - вполне узнаваемый
образ. Это лирическая героиня в юности: «А я была дерзкой, злой и веселой...».
Линия Крови получает дальнейшее развитие как
линия Вина, «опьянения». Естественной предпосылкой для этого служит «вкус души»
лирической героини, «горький» и «хмельной».
Иногда она сама выступает в роли «виночерпия»:
Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна...
Сжала руки под темной вуалью..., 1911 (с. 25).
Иногда на состояние опьянения только намекается:
…Был светел ты, взятый ею
И пивший ее отравы...
«Любовь покоряет обманно...», 1911 (с. 25)
А иногда влюбленный сразу предстает «пьяным»:
…Мне с тобою пьяным весело -
Смысла нет в твоих рассказах...
«Мне с тобою пьяным весело...», 1911 (с. 31).
Обобщая эти примеры, можно сказать, что
лирическая героиня подобна бокалу с вином. Это подобие становится еще более
явным пять лет спустя:
…Ведь капелька новогородской крови
Во мне - как льдинка в пенистом вине...
«Приду туда, и отлетит томленье...», 1916 (с.
108)
Вино в мире лирической героини - это «любовный
напиток», а винопитие - символ любовного соединения. Поэтому слова «вино» и
«поцелуй» постоянно соседствуют в тексте, поскольку выражают один и тот же
смысл. Отказываясь «пить вино», она отказывается «целоваться»:
Я с тобой не стану пить вино,
Оттого что ты мальчишка озорной.
Знаю я - у вас заведено
С кем попало целоваться под луной.
«Я с тобой не стану пить вино...», 1913 (с. 69).
А невозможность «пить вино» «из одного стакана»
свидетельствует о невозможности любовных свиданий:
Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано...
«Не будем пить из одного стакана...», 1913 (с.
56).
В этом контексте «бражники» в соседстве с
«блудницами»: «Все мы бражники здесь, блудницы...» - сходные по смыслу образы.
Все они жертвы Купидона, но одни выбрали своим покровителем Бахуса, а другие -
Венеру.
Своеобразным продолжением и одновременно -
ответвлением (боковым побегом) на линии Любовь - Кровь - Вино является Хмель.
Хмель - это одно из качеств Вина и одно из
состояний души (и сердца) лирической героини. Ее сердце становится вместилищем
хмеля, если возлюбленный не приходит на свидание:
…Как мне скрыть вас, стоны звонкие!
В сердце темный, душный хмель,
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.
«Муж хлестал меня узорчатым...», 1911 (с. 34).
Заметим, что и «пьянеет» она в ожидании
возлюбленного, а не во время встречи с ним:
Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.
«Белой ночью», 1911 (с. 35)
Но Хмель - это еще и растение, придающее Вину
соответствующее качество. Это вьющееся (добавим - как змея) растение
используется не только в пищевых (виноделие, пивоварение), но и в декоративных
целях. В южных широтах его высаживают у садовых беседок, на стены которых оно
заползает, по мере роста укрывая их крупными, резными листьями. Для этих же
целей, и более часто, используется другое вьющееся растение - плющ.
Неспециалисты их не различают. Первый и единственный раз как декоративное
растение хмель упоминается в первой книге стихов:
…Вход скрыл серебрящийся тополь
И низко спадающий хмель.
«Маскарад в парке», 1912 (с. 40)
Он укрывает вход в беседку, которая служит
местом любовного свиданья. Но это свидание лирической героини не с тем, кто ее
действительно любит.
Во второй книге стихов и далее упоминается
только плющ:
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.
«Протертый коврик под иконой...», 1912 (с. 74)
Он укрывает окно комнаты, которая тоже служит
местом любовного свидания. И на этот раз лирическая героиня встречается не с
тем, кто в нее влюблен: «Ты зацелованные пальцы / Брезгливо прячешь под
платок...».
Этот же плющ служит «вечной приметой» дома, в
котором неоднократно происходили подобные встречи. Дом исчез, и она пытается
отыскать его по этой примете: «А я мой дом отыщу “...” / По вечному плющу».
Приведенные примеры показывают, что Плющ в мире
лирической героини выполняет ту же функцию, что и Хмель (как растение). Он
укрывает места любовных встреч, еще более горестных, чем разлуки. Эти растения
можно назвать «зелеными змеями» Любви, принимая во внимание не только цвет и
форму, но и те ощущения, которые лирическая героиня испытывает в их окружении.
Линия Любовь - Кровь пересекается, как мы видим, с линией Любовь - (змеиное)
Жало.
И последняя Змея, упоминаемая в «Седьмой книге»,
- это огромный Огненный змей, повисающий над головами влюбленных в виде
созвездия:
В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма...
<...>
И мы проходили сквозь город чужой...
<...>
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.
Из цикла «Ташкентские страницы», 1959 (с. 239).
Таких «змеев» еще не было. Прототипом всех
рассмотренных выше образов являлась «земная» змея, а на этот раз говорится о
«небесной». Очевидно, этот «небесный змей» символизирует огонь небесной любви,
а не «отравность» любви земной. Можно сказать, ядовитая «змея любви»
переместилась, в конечном итоге, на небо и превратилась в светоносного
(«звездного») Змея.
Перенос Змеи с «земли» на «небо» не является
неожиданным. Напомним, что в лирической героине смешаны две «крови»:
Спокойной и уверенной Любови
Не превозмочь мне к этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне - как льдинка в пенистом вине.
И этого никак нельзя поправить,
Не растопил ее великий зной,
И что бы я ни начинала славить -
Ты, тихая, сияешь предо мной.
«Приду туда, и отлетит томленье...», 1916 (с.
108).
Одна из них подобна «пенистому вину» в бокале, а
вторая - «льдинке» в этом «вине». Второй, «новогородской крови» всего
«капелька», но она обладает необычными, чудесными свойствами.
Во-первых, она «холодная» («как льдинка»),
во-вторых, она сохраняет это свойство даже в «великий зной», т.е. чрезвычайно
устойчива, в-третьих, она не «пенистая», а «тихая», в-четвертых, она «сияющая»,
в-пятых, она помещается и «внутри» и «снаружи» («в вине» и «предо мной»).
А, кроме того, слово «любовь» рифменно связано
именно с этой «капелькой крови». Другими словами, еще в 1916 году явно намечено
разделение линии Любовь - Кровь на «кровь земную» и «кровь небесную» и
обозначен переход на линию «небесной крови». В этом контексте «сияющая льдинка»
- зародыш того «огненного змея», который появился 43 года спустя.
Но и этот «змей» еще не самая последняя Змея в
мире лирической героини. Самая последняя появляется в той же «Седьмой книге» в
произведении, озаглавленном «И последнее»:
И ПОСЛЕДНЕЕ
Была над нами, как звезда над морем,
Ища лучом девятый смертный вал,
Ты называл ее бедой и горем,
А радостью ни разу не назвал.
Днем перед нами ласточкой кружила,
Улыбкой расцветала на губах,
А ночью ледяной рукой душила
Обоих разом. В разных городах.
И никаким не внемля славословьям,
Перезабыв все прежние грехи,
К бессоннейшим припавши изголовьям,
Бормочет окаянные стихи.
(с. 233)
В этом произведении говорится, конечно, о Любви,
но где же здесь Змея? Для отыскания этого образа обратимся к перечню примет
любви, указанных в произведении «Любовь». Рассматривая «И последнее» через
призму самого первого, легко заметить, что в нем перечислены те же самые
приметы, но в развернутом и трансформированном виде. Для удобства сопоставления
воспользуемся первым списком, начиная с последнего пункта.
Любовь уже не «страшно угадать в еще незнакомой
улыбке». Она «улыбкой расцветала на губах».
Молитва, подразумеваемый смысл которой -
«спасительные стихи», превратилась в свою противоположность - «окаянные стихи».
Любовь-поводырь, которая «ведет от радости и от
покоя», привела, по словам лирического героя, к «беде и горю».
Вместо Сна (образ «дремлющего левкоя»)
появляется противоположный образ - Бессонница («бессоннейшие изголовья»).
Иней (ледяной покров деревьев) превращается в
«ледяную руку», а подразумеваемое Солнце и солнечный луч, заставляющий его
«блестеть», становятся Звездой и ее «лучом», отблески которого, как можно
догадаться, видны на поверхности воды.
Сидящий на окошке Голубь превращается в летящую
Ласточку, и «воркование» сейчас слышится как «бормотанье».
А «змейка», свернувшаяся «клубком у самого
сердца», разворачивается в «девятый смертный вал», вызывающий прежнее ощущение
смертельной опасности. Можно сказать, что «змейка», в конечном итоге, выросла
до огромной «морской змеи» (точнее - «морского змея», поскольку это не волна, а
«вал»).
Систематизируя вышеизложенное, выявленную
структуру можно представить как сложно сплетенную метафорическую сеть. Но если
исключить из нее замыкающие образы, то открывается вполне обозримое ветвящееся
«дерево», «корень» которого - Любовь, а «крона» - набор предметных форм ее
воплощения.

Рис. 4
Это «дерево» и является графической схемой
строения метафорического комплекса «Любовь-змея».
Схема показывает, что развитие структуры данного
комплекса осуществляется путем дихотомического ветвления (и замыкания, которое
мы здесь не учитываем). Формально-логически можно выделить три шага ветвления.
На первом шаге Любовь подразделяется на Жало и Кровь, а на втором каждый из
этих образов подразделяется на Осу и Змею и «Льдинку» и Вино соответственно. В
третьем шаге ветвления участвуют только Змея и Вино (Хмель), поэтому в
результате возникают еще четыре новые предметные формы воплощения образа Любви
(два «змея» и два «растения»).
Помимо ветвления, развитие структуры происходит
и за счет «линейного нарастания», примером которого служит синонимичный ряд
Вино - Хмель.
Ветвление структуры подчиняется двум основным
принципам, первый из которых можно назвать принципом противопоставления
(оппозиция «земное - небесное»), а второй - принципом омонимического
переосмысления. Оппозиция «земное - небесное» наиболее наглядно проявляется в
противопоставлении «земной» («пенистой») и «небесной» («тихой», «сияющей»)
Крови, а также в образах «небесного» («огненного») Змея и «земного»
(«морского»). Эту же оппозицию можно заметить в образах Осы и Змеи как
противопоставление тех, кто «летает», тем, кто «ползает». Омонимическое
переосмысление превращает Хмель (состояние) в Хмель (растение). Появление Плюща
- это уже синонимическая замена, подобная замене «опьянел» - «захмелел».
Развитие структуры метафорического комплекса
происходит в тех же направлениях, что и единичных образов, и направлено к тем
же центрам притяжения. В тех рамках, которые очерчивает комплекс «Любовь-змея»,
реализуются, помимо зооморфного направления, фитоморфное (Плющ и Хмель),
пирроморфное («огненный змей») и акваморфное («морской змей»). Заметим также,
что развитие структуры сопровождается увеличением «размеров» предметных форм,
происходит их грандизация.
Все вышеизложенное лишний раз подчеркивает, что
поэтический мир Анны Ахматовой представляет собой единое целое и развивается по
одним и тем же законам, а наиболее адекватным способом выявления этих законов
является анализ «повторяющихся образов», формирующих метафорические комплексы -
«гнезда».
И последнее, что особенно заметно на уровне
метафорических структур, - особая организации поэтического мира: каждая его
часть воспроизводит в миниатюре строение целого.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в поэзии Ахматовой складывается метафора,
которая, не размывая семантические границы слов, служит созданию конкретного и
вместе с тем многогранного образа. Ахматова избегает метафор, отклоняющихся от
простоты и точности. Ее стих боится излишеств, и в этой его сдержанности,
которая удивительным образом совмещается с его обостренной контрастностью, одна
из важных особенностей ее поэтического стиля. Метафора перестает в ее стихах
быть главным средством поэтической выразительности. Метафорические формы
рассредоточиваются в ее стихе, они не являются частыми, но там, где метафора
имеет место, возникают, как правило, особо акцентированные и своеобразные
формально-семантические отношения.
Ахматовские метафоры не являются равноценными в
эстетическом плане. Их можно условно разделить на две группы: 1)метафоры
традиционные, 2) метафоры оригинальные, или - собственно индивидуальные.
Традиционные метафоры создают определенный фон поэзии Ахматовой, они оказываются
«особыми поэтическими формулами», обозначающими какие-либо стороны поэтической
реальности. Это то, что уже отлито временем, что несет на себе отпечаток трудов
и вдохновения поэтов предшественников.
Традиционная метафора, однако, не вводится
Ахматовой в стихотворный текст механически. Она преображается и переосмысляется
контекстом стихотворения и поэтому не ощущается банальностью. Традиционная
метафора в ахматовском стихе служит почвой для создания новой, подчеркнуто
индивидуальной метафоры или даже метафорического сочетания.
В оригинальной метафоре Ахматовой всегда
ощущается парадоксальность, резкая контрастность, неожиданность, странность, в
основе которой лежит совмещение многого и разного в одном образе. Ахматова
умеет увидеть сходство в несходном, сблизить предметы и явления совершенно,
казалось бы, «неблизкие», найдя для этого свое «странное» основание. Множество
«спорящих смыслов» оказывается для нее совершенно естественным и необходимым.
Ахматова любит многочленную метафору, где каждый компонент вносит в текст свой
особый смысл, свою иную точку зрения на предмет или явление. Противоречие в
ахматовском мире преодолевается, становится мнимым, а связь - на первый взгляд
странная, поражающая - предстает самой прочной. Оксюморонная ахматовская
метафора отражает сложное, изменчивое, динамическое состояние героини и ее
мира.
Другая закономерность, которая поддерживает
стилевую ситуацию парадокса, характерную для Ахматовой, и которой подчиняется
процесс создания метафор в ее стихе, может быть обозначена как конкретизация
отвлеченных понятий, «взятых» из сферы человеческих чувств и представлений, из
мира природы и т. п. Стремление Ахматовой подарить им «плоть», зримые и
осязаемые формы - это одна из существенных примет ее
парадоксально-оксюморонного стиля. Особенно важными для нее оказываются
следующие характеристики, поданные метафорически: протяженность в пространстве
(предельность - беспредельность, иначе - установление пределов - снятие их);
заполненность пространства, его «непустота»; вес (весомость) самых «невесомых»
вещей; «ощутимый» способ существования в пространстве.
Внутреннее состояние человека неожиданно
раскрывается Ахматовой через конкретные, предметные представления. Насыщая
метафорический план «вещными» характеристиками, Ахматова достигает проникновения
во многие (резко контрастные) сферы бытия. Пластичность изображения
«непластичной» внутренней сферы - важный принцип поэтики и стиля Ахматовой.
Поскольку метафора организует не все
формально-смысловое пространство стиха, а только его фрагменты, что для
ахматовской поэзии особенно характерно, важен вопрос о соотношении
метафорического и неметафорического слова в пределах одного стихотворения
Ахматовой, т. е. вопрос о месте метафоры в структуре ее стиха.
Можно выявить некоторые сюжетно-композиционные
модели самых ранних стихов Ахматовой, приняв их за инварианты, которые могут
трансформироваться и действительно трансформируются в ахматовской поэзии
дальнейших лет. Оказываясь в различных композиционных позициях текста,
оригинальная контрастно-ассоциативная метафора поэтессы максимально выявляет
парадоксы ее лирического стиля, который открывает и парадоксы (резкие
«перепады», сбои, интенсивные изменения) наполняющего ее стихи лирического
смысла.
Строй метафорической ахматовской образности,
рассматриваемый в контексте других компонентов ее поэтики и, главное - в свете
ее стиля, обнаруживает существеннейшее явление литературного движения, в ходе
которого новая поэтическая культура рождается на фоне традиционной
метафорической образности. При этом она не просто продолжает «старую»
художественную культуру, но вступает с ней в диалог, занимая по отношению к ней
позицию «полемической трансформации».
Поэтический мир Анны Ахматовой представляет
собой единое целое и развивается по одним и тем же законам, а наиболее адекватным
способом выявления этих законов является анализ «повторяющихся образов»,
формирующих метафорические комплексы - «гнезда».
На уровне метафорических структур особенно
заметна особая организации поэтического мира А. Ахматовой: каждая его часть
воспроизводит в миниатюре строение целого.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Ахматова А.А. Сочинения: В 2-х т. - М.: Художественная литература, 1986. - Т.
1. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в круглых
скобках страницы.
.
Админи В.Г. Лаконичность лирики Ахматовой // «Царственное слово…»: Ахматовские
чтения. - М., 1992. - Вып. 1.
.
Барковская Н. Слово и образ в русской поэзии начала ХХ века (к проблеме
интенсификации лирической формы) // ХХ век. Литература. Стиль. - Екатеринбург,
1994. - Вып. 1.
.
Бродский И.А. Скорбная муза // Юность. - 1989. - № 6.
.
Виноградов В.В. О поэзии Анны Ахматовой (стилистические наброски) // Виноградов
В.В. Избранные труды: Поэтика русской литературы. - М., 1976.
.
Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализы, интерпретации, характеристики. - СПб.:
Азбука, 2001.
.
Гинзбург Л. Ахматова А. // Гинзбург Л. Литература в поисках реальности. - Л.,
1987.
.
Гинзбург Л. О лирике. - Л., 1964.
.
Гинзбург Л. Частное и общее в лирическом стихотворении // Гинзбург Л. Литература
в поисках реальности. - Л., 1987.
.
Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. - Л., 1973.
.
Жирмунский В.М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В.М. Теория литературы.
Поэтика. Стилистика. - Л., 1977.
.
Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. - СПб.: Азбука-классика, 2001.
.
Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала ХХ века. - М., 1986.
.
Козицкая Е.А. Архетип «вода» в творчестве А. А. Ахматовой // Ахматовские
чтения. А. Ахматова, Н. Гумилев и русская поэзия начала XX века: Сб. науч. тр.
- Тверь, 1995.
.
Корона В. В. Поэзия Анны Ахматовой: Поэтика автовариаций. - Екатеринбург, 1999.
.
Левин Ю. И. Структура русской метафоры // Труды по знаковым системам. - Вып. 2.
- Тарту, 1965.
.
Мандельштам О.Э. Слово и культура. - М., 1987.
.
Мочульский К. Поэтическое творчество Анны Ахматовой // Литературное обозрение.
- 1989. - № 5.
.
Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Поэтический язык и идиостиль:
Общие вопросы. Звуковая организация текста / Под ред. В.П. Григорьева. - М.:
Наука, 1990.
.
Очерки истории языка русской поэзии ХХ века: Тропы в индивидуальном и
поэтическом языке. - М., 1994.
.
Пастернак Б.Л. Избранное: В 2 т. - М., 1985. - Т. 2.
.
Полтавцева И. Г. А. Ахматова и культура «серебряного века»: «Вечные образы»
культуры в творчестве А. Ахматовой // «Царственное слово…»: Ахматовские чтения.
- М., 1992. - Вып. 1.
.
Скатов Н. Книга женской души // Ахматова А.А. Сочинения: В 2-х т. - М.:
Художественная литература, 1986. - Т. 1.
.
Смирнов И. П. К изучению символики А. Ахматовой (раннее творчество) // Поэтика
и стилистика русской литературы. - Л., 1971.
.
Теория метафоры: Сборник. - М.: Прогресс, 1990.
.
Тименчик Р.Д. Анна Ахматова: 1922 - 1966 // Ахматова А. После всего. - М.,
1989.
.
Тименчик Р.Д. Текст в тексте у акмеистов // Труды по знаковым системам. -
Тарту, 1981. - Т. 14.